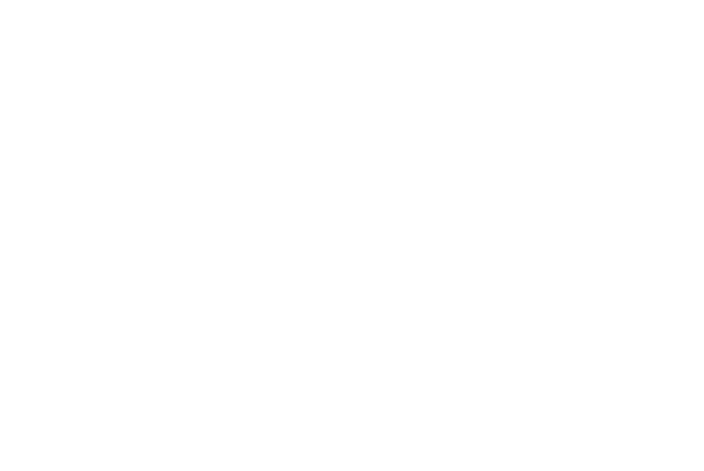В синих всплесках, в лиловом багрянце.
Это духи поют в тишине,
И кружатся в священном танце.
Она подошла неслышными шагами, словно боясь спугнуть само мгновение. Её длинный хвост нервно подрагивал.
— Волнорез? — её голос прозвучал тише обычного, почти шёпотом.
Воин обернулся, его внимательный взгляд сразу отметил её непривычную скованность. Журушка потупила взгляд, разглядывая собственные лапы.
— Я... — она замолчала, подбирая слова. — Мне сегодня снилось... что я не могу взлететь. Стою на утёсе, а крыльев нет.
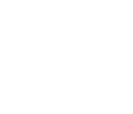
Волнорез не торопил с ответом, пускай и знал, зачем пожаловала ученица. Впротивовес её напряжению воин лишь тихо покачивал хвостом из стороны в сторону, позволяя той высказаться.
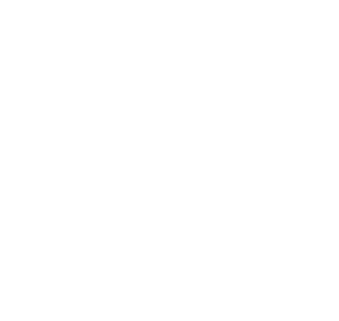
На всякий случай Волнорез глянул за спину, покрутился в одну, а потом и в другую сторону, будто правда пытаясь разубедить ученицу в невозможном.
— Небо манит, но не каждого оно готово принять и укачать на воздушных потоках. Что высь небесная, что глубина речная — чуждая нам стихия, готовая в один миг забрать жизнь, даже моргнуть не успеешь. С вершины камня шагать всё равно что нырять в бурную реку, — немного помедлив, воин всё же продолжил. — Знаешь, вдали от здешних мест, в далёком-далёком пути видел причудливых рыбок. Плавники их как крылья, да и сами они над водой парили. Совсем немного, но каждая ли рыба может таким похвастаться? А ещё видел птиц, что под воду ныряют и взлетают как ни в чём не бывало. Занятно, правда? Но ни одна летающая рыбка не сравнится с птицей в полёте, как ни одна птица не продержится под водой также хорошо, как подводные обитатели. Нужны ли тебе крылья?
— Пока одни нуждаются в свободном ветерке, перебирающем перья, другие просят о крепких рогах да копытцах, что выдержат любой натиск. Мощные лапы и острые клыки помогают другим, скрытность и миниатюрность помогает жить в гармонии всем остальным. Не ныряй с головой в стихию, что не откликается твоему сердцу, но как почувствуешь своё — хватай острыми когтями и не смей отпускать.
— Слушай, Журушка, запомни. Тебе надо верить в себя. Не в себя, в которую верю я. И даже не в мою веру в тебя. Верь в себя и в свою веру в себя. Только так ты пронзишь небеса.
Журушка замерла на краю поляны, чувствуя себя серой мышкой на ярком пиру. Этот вихрь жизни, эта беззаботная энергия были полной противоположностью её упорядоченному, тихому миру. Подойти к Коряге было страшно из-за её неукротимой жизненной силы, которая могла просто смыть её. Но что-то внутри подсказывало: именно этот огонь ей и нужен. Огонь, который не даёт душе покрыться льдом.
Журушка сделала шаг. Затем ещё один. Вышла на солнце. От воительницы пахло мёдом, пыльцой и дымком.
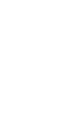
Коряга заметила её сразу. Её весёлые, блестящие глаза уставились на Журушку с неподдельным любопытством.
Воспитанница подобралась ближе, стараясь не смотреть на пчёл.
— Кривая Коряга, — начала она, запинаясь. — Ты... ты не боишься. Ни споров, ни пчёл, ни того, что подумают другие. Ты горишь. — Она сделала паузу, собираясь с мыслями. — Я прошу... немного этого огня. Не чтобы жечь, а чтобы... уметь говорить громко, когда это нужно. Чтобы защитить тишину, когда в неё врываются с пустыми словами.
Тётушка Коряга, заметив Журушку, вскинула голову и фыркнула так звонко, что ближайшие пчёлы взвились в воздух. Несколько травинок, запутавшихся в её шерсти, осыпались вниз, и одна из них прямо встала торчком на носу у воительницы. Коряга чихнула, свела глаза к переносице и расхохоталась, опрокинувшись на спину прямо в траву.
— Ох, дитятко! — выдохнула она сквозь смех, лапами отмахиваясь от пчёл. — Ты только глянь на себя! Стоишь тут, словно мышь у норы, а сама просишь… чего? Огоня... огня... Да у тебя в глазах уже искорки наплясывают, не притворяйся!
Она перевернулась обратно на живот, уставилась на Журушку сияющим взглядом.
— Но раз уж пришла просить, то садись. — махнула хвостом, — Ушки развесь, лапы под себя подбери — расскажу тебе про моего полосатого зверька, хи-хи.
— Я и не притворяюсь, тётушка, — её голос прозвучал тихо, но без привычной дрожи. — Искорки в глазах — это, видно, отражение твоего костра. Того, что горит внутри. — Она осторожно протянула лапку и поправила травинку, всё ещё торчавшую на носу воительницы. — Мне не нужен пожар. Мне достаточно... одного уголька. Того, что тлеет под пеплом даже в самую лютую стужу и не даёт огню угаснуть совсем.
Она притихла, подбирая слова, глядя на Корягу не с восхищением, а с глубоким, ясным пониманием.
Голос Коряги стал чуть тише, и даже пчёлы, казалось, улеглись на её шерсти, когда кошечка перед ней оказалась такой робкой.
— Енот, Журушка-птичка, он ведь простым глазом смешон. Шарит где не надо, лапы в каждую щель, в каждую корягу. Клановцы думают — шалун. Но он умён. Он смотрит и ждёт. Не суетится. Мир для него как пазл — если в лоб не сложить, значит, сбоку подкопать можно.
Она прищурилась, на миг став совсем серьёзной.
— Но главное — он всегда среди других. Один он чахнет. В толпе он живёт. И не силой живёт, не криком, а смекалкой да лёгкой ухмылкой. Он знает: тишина бывает крепче крика. Но если уж скажет слово — то оно попадёт точно в цель. Это и есть то, что питает моё огонёк.
Журушка слушала, не шелохнувшись, но внутри неё всё перевернулось. Она не ожидала такой глубины от вечно смеющейся воительницы. Когда Коряга замолчала, в тишине звенело что-то важное, только что обретённое.
Коряга резко вытянула лапу, будто схватила невидимую искру в воздухе, и сжала её.
— Вот такой у Енота огонь: не пожарище, что всё пожрёт, а светлячок, что мигнёт и поведёт за собой, но и не уголёк, уголёк-то погас уже, глупышка. — фыркнув, Коряга подалась вперёд, чтобы щёлкнуть воспитанницу по носу лапой.
Она прикоснулась лапкой к цветку, вплетённому в её шерсть, и её голос стал твёрже, увереннее. Она не отпрянула, когда Коряга потянулась щёлкнуть её по носу. Вместо этого Журушка встретила её взгляд, и в её огромных глазах вспыхнула та самая, только что обретённая искра — не ослепительная, но цепкая и живая.
— А этот светлячок... он ведь не обжигает. Он — указывает. — Журушка медленно подняла взгляд на воительницу. — Я всегда боялась, что моя душа — это уголёк, который вот-вот погаснет под чужим дыханием. А оказалось... она может быть светлячком. Тихим. Но его видно даже в самой густой тьме. И он может вести. Не крича, а просто... мигая.
— Он... подкапывает сбоку, — тихо повторила Журушка, и в её глазах вспыхнуло озарение. — Не ломает, а обходит. И находит другой путь. — Она посмотрела на Корягу с новым, глубоким уважением. — Я думала, его сила — в этой... суете. А она — в терпении. В умении ждать и видеть весь пазл.
— Знаешь, дитятко… — заговорила она медленнее, чем обычно, — я ведь сама когда-то думала: ну какой из меня Енот? Я же не хитрая, я болтливая да неуклюжая. Репейники вон за мной по пятам ходят, будто лучшие друзья. Но потом поняла… не про хитрость он. Про другое.
Она повела хвостом по земле, оставив борозду в пыли.
— Енот учит не бояться быть смешным. Не бояться чужих взглядов. Ты вон думаешь — ты не такая, как другие, да? Но это «не такая» и есть твой огонь. Маска, что у тебя в лапах. Наденешь её — и не спрячешься, а станешь сильнее.
Она хмыкнула и склонила голову набок, будто прислушиваясь к чему-то невидимому, даже взгляд устремила на шуршащий куст.
— Иногда мне кажется, Журушка, что Енот смеётся вместе со мной. Но вот смеётся ли он надо мной или со мной — до сих пор не разберу.
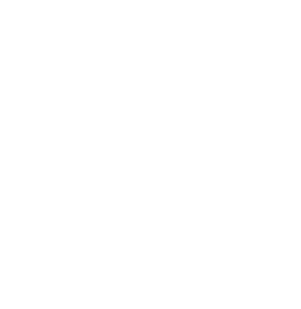
— Маска... — её собственный голос прозвучал чужим, сдавленным шёпотом. Она смотрела на Корягу, но видела не её, а вереницу лет, проведённых в тени, в тихом собирательстве, в котором она сама боялась себе признаться. — Я... я ведь тоже собираю маски. Но не для того, чтобы надеть.
Она сделала короткий, прерывистый вдох, будто готовясь к прыжку в ледяную воду. Глаза её были полны откровенного, почти детского ужаса перед этим признанием.
— Я собираю «неудачников», — выдохнула она, и слова понеслись стремительно, словно боясь, что смелость её покинет. — Кривые перья, которые не смогли летать. Сломанные ветки, которые не выдержали ветра. Камни, которые все считают уродливыми. Я даю им приют в своей пещере. Я... я думала, что жалею их. Что это моя слабость — видеть себя в каждом сломанном предмете.
Она замолчала, дрожа всем телом, и в её взгляде читалась настоящая, недетская боль.
— Но это... это не слабость, правда? — её голос сорвался, став беззащитным и тонким, как у того самого котёнка, которым она когда-то была.
В её глазах, широко распахнутых, плескалась буря из стыда, надежды и рождающегося озарения. Она только что вывернула перед этой весёлой, мудрой кошкой самую сокровенную, самую уязвимую часть своей души — и теперь замирала в ожидании приговора, впервые в жизни по-настоящему жаждая не осуждения, а понимания.
— И если это так, — прошептала она, глядя на Корягу с мольбой, — то... то выходит, я всё это время, сама того не зная, собирала не их... а собирала саму себя? По кусочкам?
Это было больше, чем потрясение. Это было землетрясение, рушащее все её старые представления о себе. И в образовавшейся трещине пробивался первый, слабый, но живой росток нового понимания — того, что её странность была не изъяном, а уникальным инструментом творения.
Она наклонилась к Журушке, усы зашевелились, щекоча воздух, когда увидела в глазах воспитанницы озарение.
— Я рада. что из моих слов ты нашла важное для самой себя. раз так...
Она склонила голову ближе, почти коснувшись лбом лба Журушки.
— Я благословляю тебя, дитя. Пусть дух мой даст тебе надежду на тот свет, что ты так жаждешь отыскать в своей душе, ведь ты уже сияешь ярче самого звёздного неба. — подмигнув, кошка торжественно задрала голову к небу и продолжила, — Пусть слова твои будут не громче всех, а точнее. Пусть хватит сил подняться против пустозвона, но и мудрости — молчать, когда это сильнее крика.
И тут всё изменилось. Пчёлы стихли. Воздух вдруг стал неподвижным, будто солнце замерло. Коряга всё так же улыбалась… но стоило моргнуть — и её не было. Ни смеха, ни запаха, ни пёстрой шерстки с запахом мха. Только пустое пятно в траве, где она сидела, и одинокая травинка, кружась, медленно опускаясь на землю. Кто благословил? Енот через её голос? Или сама Коряга — просто снова выкинула свой фокус?
Ответа не было. Лишь лёгкий смешок, будто из сухой листвы, да ощущение — что благословение уже глубоко в сердце.
Завлекающая отдыхала, свернувшись среди тьмы палатки, её спокойная фигура излучала ту самую непоколебимую силу, что была ей свойственна. И лишь ее легкое, словно дневной ветерок, дыхание эхом разлетались дальше — мирный, спокойный отдых спустя столько лун.
Но уши темной дернулись, она тут же подняла свою морду и увидела нежное дитя. Ещё такое маленькое, как ей казалось, но бойкое и готовое свернуть горы. Журушка присела перед ней, поджав хвост, и опустила голову.
— Матушка, — её голос прозвучал тише шелеста листьев. — Я пришла... просить. Не за себя. За твоё благословение. Благословение Медведицы.
Завлекающая не удивилась. Её тёплый, глубокий взгляд изучал дочь. Она видела не хрупкость, а ту тихую твердь, что вызревала в её душе.
— Зачем тебе сила моей шкуры, дитя? — спросила она мягко. — Твои тропы иные.
— Я не прошу её когтей, — прошептала Журушка, поднимая глаза, в которых отражалось закатное небо. — Я прошу её терпения. Чтобы ждать, когда другие уже бегут. Её мудрости — чтобы знать, какие корни стоит трогать, а какие — обойти. Её защиты... — голос её дрогнул, — но не для того, чтобы ломать, а для того, чтобы укрывать. Как она укрывает своих детёнышей под крылом ночи.
Она сделала шаг вперёд и осторожно, почти благоговейно, прикоснулась лбом к материнской груди, туда, где, как она знала, в сердце живёт тот самый дух.
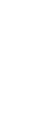
Она начала подниматься, шурша перьями и листвой своей подстилки. Уселась, гордо вытянув морду вверх: будто разминала свое затекшее тело, готовилась к той речи, которая изменит путь ее котенка.
— Так значит, тебе нужно терпение, мудрость и защита от великой Медведицы? А не торопишься ли ты, малышка? Уверена, что уже пора ступать на те земли, что несут за собой страх и ужас? — Завлекаюшая наклонила голову, будто бы смотря сквозь Журушку. Видела ее насквозь, но при этом гордилась. Эта малышка добилась многого за свою коротенькую жизнь, сколько всего случилось — безусловно, радость на глазах матери, слезы счастья.
— Медведи.. очень могущественные существа. Их шерсть — это их шуба, то, что удерживает тепло даже в самые лютые морозы. Их когти — острое орудие, что разорвет любого.. противника. Но они добры по-своему, они мудры и готовы защищать своих детенышей ценой собственной жизни. Похоже на нас, да?
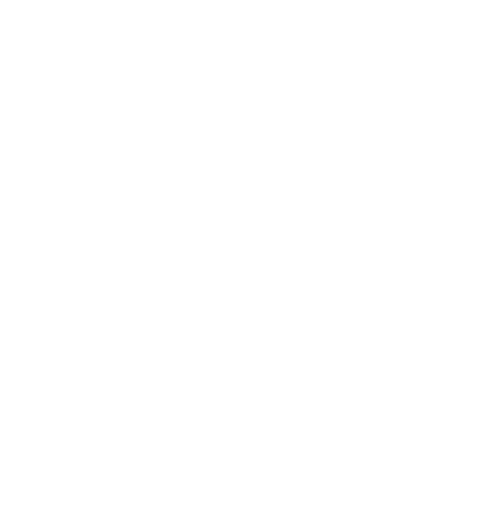
— Мудрость проста.. стой твердо на своих лапках, пробирайся сквозь вьюгу и пургу, рассекая их своим телом и ты познаешь истину. Найдешь ее там, где не ожидаешь. Увидишь ответ в местах, в которых, казалось, темно и страшно. Терпение: как бы тяжело тебе не было, как бы жизнь не надоедала и кто бы что не говорил — слушай, но пропускай мимо ушей. Твоя стойкость, твоя опора поможет тебе все это преодолеть, научит тебя такому терпению, которое невиданно никому. Только тебе и мне. И, конечно, защита: отдай свои силы во благо Клану, нуждающемуся в ней. Покажи, что ты можешь стать поддержкой для кого-то, кому действительно нужна помощь. И ты не успеешь заметить, как гордая и властная Медведица откроет перед тобой безопасный путь: горой будет стоять за твоей спиной, оберегая твою душу от каждой опасности…
Воительница вдруг остановилась, голос ее затих и вокруг воцарилась тишина — словно духи кружили вокруг. Это были не страшные звуки, а.. хм, что же это было? Наверное, только сама Завлекающая и знала ответ, многое видела в своей жизни, обладала тем, что другим не дано.
— Духи довольны.. Я так и слышу, как моя Медведица ворчит от гордости, что мое дитя имеет мои черты, мою стойкость. Она хочет оберегать тебя.. говорит, что ты достойна пройти путь, что уготован всем. Поэтому, моя прекрасная Журушка, я благословляю тебя. Отправляю тебя на тот путь, что сделает тебя ещё сильнее, мудрее и величавее. А я же буду ждать тебя тут, дома — так скорее вернись ко мне и покажи свой трофей, что ты добыла! А медведица, мой дух-хранитель, поможет тебе на этом сложном пути!
Темная шерсть распушались — хвост задергался. Она была довольна, счастлива. Она не сдержала себя и тут же наклонила голову ещё ниже.. ниже.. пока ее мокрый нос не уткнулся в лоб воспитанницы. Воительница благословила своего котенка, с чистым сердцем отпуская ту в дальний путь.
Он заметил её приближение, его зелёные глаза с любопытством устремились на неё. Не было ни насмешки, ни снисхождения — лишь лёгкое удивление.
— Журушка, — произнёс он, и в его голосе не было привычной ей резкости. — Что привело тебя сюда?
Она собралась с духом, её лапы чуть дрожали.
— Я пришла просить, Зёв. Просить благословения твоего Духа-Хранителя..
Тишина повисла между ними. Зёв склонил голову.
— Карибу? — переспросил он. — Разве это твои тропы?
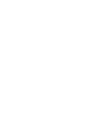
Она сделала шаг ближе, её голос окреп.
— Ты нёс его дух в беге и силе. А я... я хочу нести его в своём упорстве. Чтобы моё сердце не сбивалось с ритма, даже когда лапы подкашиваются.
Зёв смотрел на неё, и в его взгляде что-то изменилось. Он видел не ту робкую ученицу, что пряталась в тени, а ту, что прошла свои собственные, невидимые другим долины и горы. Сам воитель же выглядел растерянно. В нем всегда всегда можно считать свойственную ему озадаченность, но сейчас она достигла своего апофеоза – Журушка была немногим младше юного воина, и, если воспитанница не пошла просить кого-то бывалого из воителей – значит, на то была особая причина. Приняв это как данность, он поднял глаза, пытливо всматриваясь в свою бывшую соученицу. Лучи погасающего солнца сделали её синеватую шерсть чёрной, и, несмотря на это, её дух горел яркой решимостью.
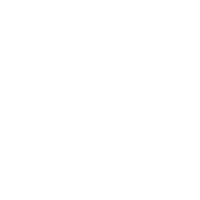
– Вижу я, не занимать тебе упрямства, Журушка, – начал воитель, – Но учит тотем развивать пробивные способности там, где недостаточно одной силы. Тяжелы рога плечам..
Ледяные глаза сверкнули чем-то неестественным, не из этого мира.
– Да совладает дух Карибу с этой ношей луна за луной. Справишься ли и ты?
Кот окончательно нарушил дистанцию между ним и Журушкой, касаясь её розовым носом. Зёв не отстранялся – этот жест был особенно значимым, его нужно было растянуть на несколько мгновений. Взгляд витязя обратился за спину ученицы, заставляя её обернуться и разорвать контакт. Там, на темнеющем небе, переходящим из рыжего в синий показалась далёкая, зарождающаяся Луна-Карибу.
– Показался Оленёнок, чтобы дать совет: не страшись этого груза – только он заставляет северного оленя идти вперёд, не взирая на случай. Продолжай свой путь и ты, юная леди.
Подойти к нему было страшнее, чем к кому бы то ни было. Он казался существом с иного уровня бытия. Сделав глубочайший вдох, воспитанница вышла из укрытия. Он заметил Журушку, не поворачивая головы. Лишь уши развернулись в её сторону.
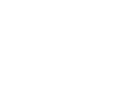
Он медленно повернулся. Его глаза, цвета грозового неба, упали на неё. В них не было ни тепла, ни холода — лишь чистое, незамутнённое внимание.
— Я вижу, как ты мыслишь, — выдохнула Журушка, подбирая слова с ювелирной точностью. — Не как все. Ты не отталкиваешь хаос. Ты его... раскладываешь, словно шаман — целебные травы. Дай мне... — она запнулась, чувствуя, как её собственные мысли путаются под этим взглядом, — дай мне крупицу этой ясности. Умения отделять главное от второстепенного. Чтобы в самой гуще чужих чувств и своих сомнений я могла найти ту единственную нить, что ведёт к истине.
Где-то там, внизу, далеко под их лапами, протекала жизнь. Бурлящая, словно горная река, столь же сильная и неукротимая. До чутких ушей доносились голоса соклановцев, долетающие лишь отголосками тихого эхо. Колкий Тёрн поднял голову ввысь, обращаясь к темнеющему небу. Совсем скоро оно окрасится разноцветными всполохами хвостов небесных Огней. Мудрых наблюдателей, что неустанно оберегают Северные земли.
— Журушка, росомашьи земли обманчивы и глумливы. Они словно созданы для того, чтобы проверить твою интуицию и знания. Но тебе стоит помнить, что даже, казалось бы, безвыходную ситуацию всегда можно обернуть себе в пользу. Не забывай о том, что голова дана тебе не просто так, — воитель мягко улыбнулся на этих словах. — Да, многие живые существа движимы волей сердца, но лишь острый ум спасёт твою шкуру. А если нет, то, что ж, — пардус хмыкнул, — будет для тебя урок и новый опыт.
Мягкий порыв прохладного ветра взъерошил шерсть собеседников, чудилось, что он силился подбодрить ученицу перед испытанием. Воитель вернул взор светлых глаз к воспитаннице. Голос его звучал твёрдо и, казалось, чуть успокаивающе.
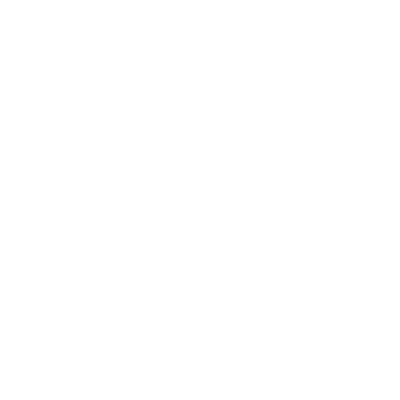
Колкий Тёрн склонил голову ближе к Журушке, глядя в глаза и коснулся носом лба.
— Да будет твоя поступь твёрдой, да не устрашишься ты дороги неизвестной, укрытая крылом вороновым.
В путь...
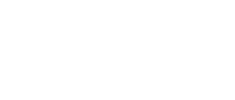
Журушка почувствовала его взгляд прежде, чем обернулась. Он жёг её спину, как физическое прикосновение. Она медленно повернула голову, и их взгляды встретились сквозь серебристую пелену тумана.
В его глазах она прочла всё.
Она увидела, как он прошёл. Не побежал, не поскакал — проковылял, словно раненый зверь, пытающийся унести своё тело подальше от чужих глаз. И она почувствовала это. Не просто увидела дрожь в его лапах — она ощутила её на своей собственной шкуре, ледяными мурашками. Она уловила тот едкий, горький привкус страха, что поднимался у него в глотке. Он боялся. Не за себя. За неё. И этот страх был страшнее любого горного духа.
Он вёл её в их убежище. В их собственный, маленький мир, сотканный из хрусталя и тишины, прежде чем выпустить её в большой, жестокий.
Она последовала за ним, как тень, но на этот раз — тень, отбрасываемая не солнцем, а пылающим пламенем его тревоги. Они молча миновали спящие палатки, пересекли ручей, чьё журчание сегодня казалось посмертной балладой, и скрылись в знакомом каменном лабиринте.
Шаг Омутика был твёрдым, но внутри всё сжималось в ледяной ком. Сегодняшний день он одновременно ждал и боялся. День её Обряда Посвящения. Встреча с Росомахой лицом к лицу. Блуждание по Лабиринту, где каждый неверный шаг мог стать последним
И вот, он открылся перед ними — Кристаллический лес. Гигантские самоцветы, рождённые недрами земли, стояли, как немые стражи, храня эхо их тихих разговоров и безмолвных обещаний. Воздух здесь звенел от тишины, а свет, пробивающийся сквозь щели, дробился в миллионах граней, усеивая стены и пол россыпями призрачных звёзд.
Омутик остановился и повернулся к воспитаннице. Его серьёзное, уже почти взрослое лицо было напряжено. Он не мог скрыть дрожь в лапах, но его взгляд был твёрдым.
Свет, игравший на кристаллах, был не столь красив — он был жесток. Он выхватывал из полумрака мельчайшие детали: напряжённую линию его плеч, влажный блеск в его глазах, едва заметную дрожь уса, который он пытался сдержать.
Журушка не стала ждать слов, которые, она знала, застряли у него в горле колючим комом. Она подошла так близко, что их шерсть соприкоснулась. Воспитанница чувствовала, как бьётся его сердце — бешеный, отчаянный стук, пытающийся вырваться из клетки груди. Его страх, его боль — всё это обрушилось на неё водопадом, и Журушка приняла этот поток. Не сопротивляясь, не отшатываясь.
«Журушка...» — его голос сорвался на шёпот. Он сглотнул, пытаясь протолкнуть ком страха, застрявший в горле.
Она поняла. Всегда понимала без слов. Её большие, ясные глаза посмотрели на него с безграничной нежностью. Сквозь густую шерсть она слышала — его сердце колотилось, как пойманная птица.
Это легкое прикосновение стало ключом, отпирающим все замки. Слова, которые он так тщательно выстраивал в голове, полились сами — тихие, горячие, искренние.
«Я... я боюсь, — признался он, спрятав морду в её шерсти. — Боюсь той твари. Боются льда, что может обмануть. Боюсь, что Лабиринт не отпустит тебя...»
Омутик говорил. Горячие, рваные слова обжигали её кожу сквозь шерсть. Журушка не слышала смысла — она чувствовала его страх. Он входил в неё вихревым потоком, ледяными иглами впивался в сердце, сковывал лёгкие. Это был не её страх. Это был его. Чужой, но ставший в этот миг единственно реальным.
Он отстранился, чтобы посмотреть ей в глаза, и его голос приобрёл ту самую стальную силу, которую он так долго в себе взращивал.
«Но я верю в тебя. Сильнее, чем в самого себя. Я уверен в тебе, как в том, что ясный Сокол придет за Луной-Карибу. Ты — самая ловкая, самая умная и самая сильная кошка, которую я знаю. Не просто сильная... несгибаемая».
Он коснулся её лба своим.
«Иди. Пройди этот путь. Пускай ты уходишь отсюда моим Журавликом-воспитанницей, а вернёшься... — он сделал паузу, и в его глазах вспыхнула гордость, смешанная с грустью, — а вернёшься с обряда бравым воином. Воителем Северного Клана, который готов на всё. Который прошёл сквозь лёд и страх.. и стал только крепче».
Её лапы онемели. Внутри всё кричало, чтобы этот момент никогда не кончался, чтобы они могли остаться просто здесь, в этом застывшем мире, где нет ничего, кроме сияния и их двух сердец, бьющихся вразнобой.
Но его голос смолк. И в наступившей тишине её собственная дрожь вдруг утихла. Его страх, достигнув в ней пика, внезапно переродился. Он не исчез, нет. Превратился в нечто твёрдое, ясное и холодное, как окружающие их самоцветы. Стал стержнем.
Она не произнесла ни слова. Она просто подняла лапу и мягко, почти невесомо, прикоснулась к его груди. Кончики её когтей едва ощутимо коснулись шерсти над его бешено стучащим сердцем. Это был не жест утешения. Это было принятие. «Я беру твой страх. Он теперь мой».
Его слова висели в воздухе, переливаясь вместе со светом на кристаллах, запечатлевая этот миг — миг прощания с беззаботностью и веры в грядущее испытание.
Журушка чувствовала, как под её лапой сердцебиение Омутика начало меняться. Сначала хаотичные удары, потом реже, глубже, обретая ритм. Его прерывистое дыхание выровнялось, слившись с её ровными, тихими вдохами.
«Я буду ждать, — прошептал он ей на прощание. — Здесь. В нашем Кристальном лесу. И мы снова встретимся».
Потом Журушка наклонилась. Её лоб коснулся его лба, и цепи замкнулись. Через эти касания в его жилах растеклись иные волны — не страха, а безмолвной, непоколебимой уверенности. Тихий ответ на его крик.
«Я не сломаюсь. Потому что ты ждёшь».
Воспитанница оторвала свой лоб от его лба и посмотрела прямо в глаза напротив. В её взгляде не было обещаний или надежды. Отражение той самой кристальной ясности, что родилась внутри нее из осколков его ужаса. Журушка не кивнула. Не улыбнулась. Она просто впустила его в этот свой новый, самоцветный внутренний мир, позволив ему увидеть ту несгибаемую твердыню, что теперь стояла на месте её хрупкости.
Потом она развернулась. Медленно, будто преодолевая сопротивление самого воздуха. Её хвост мягко провёл по его лапе — последнее, мимолётное прикосновение, и прощание одновременно.
И ушла. Сделав три шага в сумрак туннеля, она на миг остановилась. Пол-оборота — и в хрустальной тишине прозвучали слова, тихие, но отчеканенные, будто вырезанные на льду:
«Всякая река возвращается к своему истоку.»
И растворилась во тьме.
Омутик остался один. Эти слова отозвались в нём глухим гулом, словно удар сердца самой горы. В них не было ни надежды, ни страха — лишь простая, неумолимая правда, знакомая каждой реке и каждому омуту. Она не пообещала вернуться. Она просто напомнила закон бытия: как бы далеко ни убегала река, её воды всегда возвращаются домой. К своему началу. К нему.
Потом она развернулась. Медленно, будто преодолевая сопротивление самого воздуха. Её хвост мягко провёл по его лапе — последнее, мимолётное прикосновение, и прощание одновременно.
И ушла. Сделав три шага в сумрак туннеля, она на миг остановилась. Пол-оборота — и в хрустальной тишине прозвучали слова, тихие, но отчеканенные, будто вырезанные на льду:
«Всякая река возвращается к своему истоку.»
И растворилась во тьме.
Омутик остался один. Эти слова отозвались в нём глухим гулом, словно удар сердца самой горы. В них не было ни надежды, ни страха — лишь простая, неумолимая правда, знакомая каждой реке и каждому омуту. Она не пообещала вернуться. Она просто напомнила закон бытия: как бы далеко ни убегала река, её воды всегда возвращаются домой. К своему началу. К нему.